Очерки провинциальной жизни 40-х годов XIX века.
Источник: А.А. Потехин. Сочинения. Том 1. СПб, 1903.
Первая публикация текста: 1852 год, в журнале Современник.
Глава I
В числе уездных городов есть очень мелкие городки, в которых общество представляет в себе обыкновенно два круга: высший, к которому принадлежат помещики и чиновники города, и низший, к которому относится промышленный класс жителей; среднего кружка почти не бывает: переходы из одного круга в другой или вовсе не совершаются, или совершаются быстро и незаметно. Общественная жизнь такого городка, разумея здесь в особенности общественные удовольствия и увеселения, преимущественно разгорается и кипит зимою, во время крещенских и сретенских морозов, а хладеет и остывает вместе с уменьшением зимнего холода, с появлением весенней оттепели и наступлением жарких летних дней. Мы и начнем наш рассказ об этой общественной жизни городка с того самого времени, когда она бывает в полном разгаре своем, для того, чтобы потом нам было тем интереснее и тем легче следить, как это периодически волнующееся море постепенно входит в обычные берега свои и наконец расстилается гладкой, тихой поверхностью. Итак, мы начнем со Святок.
Вместе с приближением их, в высшем круге общества родится мысль о том, как бы устроить собрание; но эта мысль до Святок таится в зародыше и получает свое развитие и осуществление только вместе с их наступлением. В самый первый день праздников, когда все существуцющие в городе лошади впрягаются в экипажи, чтобы развозить своих господ с визитами, и когда поздравления разносятся из одного дома в другой, и когда самые сложные и многочисленные закуски красуются на столах гостиных — тогда-то именно идут и самые живые переговоры о задуманных удовольствиях. При этом возникает много весьма важных= вопросов: во-первых, где устроить собрание; во-вторых, где достать нужное количество музыкантов; в-третьих, откуда взять необходимое число кавалеров, так как в девицах всегда оказывается избыток против них? и проч. Но все эти вопросы наконец решаются, после продолжительных совещаний. В городке есть училище, воспитанники которого распущены по случаю вакантных праздничных дней; следовательно, одна из классных комнат, большая, может быть весьма удобной залой для танцев, а остальные — меньшие — для помещения необходимых принадлежностей собрания, как-то: уборной, карточной и т. п. Следы ученических занятий, оставленные на полу этих комнат в виде чернильных пятен, могут быть изглажены; но если нет, то они не представят большого затруднения для легкоскользящих ног танцоров. Мебель, весьма удобная для школьником и не совсем для посетителей собрания, легко может быть заменена временным набором из лишних стульев и кресел, находящихся в домах особенных поклонников общественных удовольствий.
Там, где имеется в виду единственно одна общая веселость, там роскошь и великолепие не составляют необходимости, и изломанный или надломившийся под кем-нибудь стул не уничтожит этой веселости, а разве даст еще ей новую пищу. Итак, первый вопрос решен. За ним легко устраняется и второй. Две скрипки составят весьма удовлетворительный оркестр, в котором даже могут быть primo и secundo; а если прибавить к ним кларнет или флейту, да еще треугольник, то согласитесь, что и сама Терпсихора не отказалась бы танцевать с таким аккомпанементом. Достать эти две скрипки, а с ними и двух скрипачей вовсе не трудно: стоит только послать за одним к такому-то помещику, а за другим — к другому. Если же сбор на собрание будет довольно значителен, то можно в таком случае выписать из губернского города целый оркестр, состоящий из четырех инструментов, а именно: двух скрипок, одной флейты и одного контрабаса. Содержание музыкантов, во все продолжение общественного веселья, можно возложить на одного из членов собрания, с тем, чтобы избавить его от денежного взноса. Итак, второй вопрос тоже решен. Но третий представляет более трудности. Открывается, что кавалеров танцущих, или желающих танцевать только трое, а дам более пятнадцати. Конечно, эти трое такие усердные поклонники Терпсихоры, что во время живых танцев, как то: вальса и полек, не позволят сидеть ни одной из танцующих дам; но увы! ведь есть французская кадриль, которую необходимо танцевать и для которой нужно такое же количество кавалеров, как и дам. Впрочем, г. N, который знает несколько фигур кадрили и, несмотря на это, более любит играть в карты, конечно, пожертвует своим удовольствием для общественного; господина NN можно так же уговорить танцевать, хоть он застенчив, упрям и любит только сидеть в карточной и смотреть, не играя сам. Следовательно, число танцоров возросло до пяти, и если с присоединением малолетних молодых людей, носящих имена с ласкательными окончаниями, впрочем, танцующих, и нельзя будет составить полного комплекта, тогда, нечего делать, и дамы могут танцевать за кавалеров. Все остальные мелочные недоумения, после этих главных, устраняются скоро.
Итак, можно приступить к подписке.
Количество подписной суммы зависит от произвола; но всякий отец семейства подписывается тем охотнее, чем многочисленнее его семейство, потому что собрание здесь обыкновенно бывает с даровым десертом, следовательно малолетние члены семейства могут быть также вывозимы в собрание и приобретая навык держать себя в обществе, употреблять свое время с пользою и удовольствием. Когда таким образом составится сбор, достаточной для того, чтобы мысль о собрании привести в осуществление, тогда на одного из тех, в уме которых впервые родилась эта мысль, возлагается покупка необходимых материалов для собрания, как то: свеч, конфект, миндаля для оршаду и проч., вообще вся хозяйственная часть. В то же время другой принимает на себя внешнюю организацию. И вот наконец все это поспешно — в два-три дня — совершенно устраивается.
Вы сами легко можете представить себе те хлопоты, которые происходят в это время во всех частных домах, где приготовляются к собранию девицы, и тот трепет, которые овладевает их юными и наивными сердцами, когда наконец, в такой-то день, они приготовляются ехать в собрание: сколько прошло тяжелых месяцев, в продолжение которых они или вовсе не танцевали, или танцевали дома, в своем семействе, при скудном освещении, в тесной зале, под звуки расстроенного фортепиано; а теперь!… огромная зала, великолепное освещение стеариновыми свечами, при котором можно найти на полу булавку, не пошарив рукою, гром трех или четырех инструментов, танцы с кавалерами, разноголосый веселый говор!… О, вы, привыкшие к столичной жизни, к ее всегдашнему шуму, к ее блеску и роскоши, вы не поймете чувств девицы, живущей в городке и приготовляющейся ехать в собрание…
Но не думайте, чтобы и здесь предавались веселью с полным увлечением: о, нет! строгое уважение приличия и бон-тона стоит на страже и не дает развернуться полному веселью.
Вот уже десять часов вечера; отчего бы, кажется, в городке общему веселью не быть в это время в полном разгаре? но зала собрания еще пуста: в ней суетятся лишь главные распорядители, переводят оркестр из одного угла залы в другой, выбирая более удобное для него помещение, переставляют стулья то в таком, то в ином порядке, приказывают поправлять криво поставленные в кенкетах свечи, зажигают курительные свечки и ставят их по окнам, не думая, что впоследствии от них могут пострадать фраки или платья неосторожных, наблюдают за сортировкой на подносах десерта, и проч. У них много хлопот.
Между тем, в это время юные талии девиц затянуты в корсеты, на руки надеты, если успели запастись заблаговременно в губернском городе, французские, в противном случае — простые русские, перчатки, приобретенные в единственной галантерейной лавке городка. Самые разнообразные по материи, хотя и одинаковые по фасону платья: шелковые, марселиновые, гласе, кисейные, тарлатановые, тюль-люзьен, как его здесь называют, и проч., шумят в разных частях города, для того, чтобы через несколько времени собраться в одну кучу, для того, чтобы толстое шелковое платье небрежно задело русское реденькое гласе, а тюлевое посторонилось от кисеи. В ожидании наступления торжественной минуты, дочки рисуются пред заботливыми матерями, и нежная родительская любовь дополняет в костюме дочерей то, что упущено было из виду всегда ветреными горничными.
Казалось бы все уже готово и пора ехать: уже догорает сальная свеча, поставленная немного на бок в свой медный подсвечник пред зеркалом уборной девицы, уже давно налюбовалась она своей тонкой, стянутой до неимоверности талией, уже твердо заучила она ту улыбку и те манеры, с которыми войдет в залу собрания и которые исчезнут, забудутся с первым туром вальса, с первой фигурой французской кадрили, как капля росы, алмазом блестевшая на игле сосны, испаряется от первого прикосновения к ней солнечных лучей; давно уже проверила она и свое искусство танцевать различные польки и вальсы в одну сторону и в другую, в два и в три темпа, или, чтобы показать знание во французском языке, à deux et à trois temps, но ни она сама, ни тем более ее maman не решается ехать в собрание, чтобы не приехать туда первыми и не показать чрез то незнания света и провинциализм… И вот с разных концов города стремятся к одному центру — к собранию, разнохарактерные физиономии лакеев, посланных своими господами — узнать, не приехал ли кто в собрание. Посланные сходятся у своей цели в одно и то же время, но не находят еще ни одного экипажа.
— Ты что? спрашивает один из них другого.
— Да вот господа прислали узнать, не приехал ли кто! А ты что?
— Ну, известно, и меня за эвтим же прислали! Что, твои не приехали?
— Нет, не приехали! А твои что — приехали?
— Нет, и мои не приехали!
— Ну, так, знать, никто еще не приехал! говорят они в один голос.
И возвращаются с этой вестью к господам своим.
— Ах, как это скучно! говорят дочки: — оделись и жди тут!
— Удивительное общество! возражают матери: — одиннадцать часов, и никого нет. Ни на что не похоже! А ведь все эта церемония: никто не хочет приехать прежде других. Смешное общество!
Наконец, посланные через полчаса после этого поспешно возвращаются домой с вестью, что приехали такие-то и такие-то.
— Ну, конечно! так и надобно было ожидать, что эти первые прилетят. Ну, да, конечно, им простительно.
«Кто не видал ничего лучше, тому понравится и наше собрание!», говорят дамы. И вслед за тем спешат садиться в экипажи. И с разных сторон города съезжаются в собрание почти одновременно, и через час там уже кипит жизнь в полном разгаре. Вот раздается гром оркестра, и веселые пары летят мимо всего в неимоверно быстром вальсе, так что музыка принуждена часто догонять танцующих. Кавалеры беспрестанно меняют дам, машут руками музыкантам, чтобы они не останавливались, а некоторые, закружившись до тошноты, убегают на минуту в буфет, чтобы выпить стакан воды и потом снова кружиться еще быстрее прежнего.
Но вот умолк оркестр. Девицы, усталые от танцев, отдыхают, небрежно сидя на стульях, и маханием платка, производящим отрадную свежесть, стараются прогнать излишнюю красноту с дышащих здоровьем своих личик. Довольные оказанным им вниманием, они лукаво и с беспощадной иронией смотрят на тех из своих подруг, которые танцевали весьма мало и теперь, во время антракта, расхаживают по зале, еще более лукаво и еще с большей иронией разговаривая о том, что Mr. N уже чересчур много участия показывал m-lle NN, а Mr. NN так закружился, что чуть-чуть не уронил свою даму, которая к тому еще и танцует-то весьма дурно.
Кавалеры меж тем тотчас, как только замолк оркестр и уселась последняя пара, мгновенно скрываются из залы, как будто танцевали ex oddicio и вне танцев не считают своей обязанностью занимать дам. Да и в самом деле, жизнь маленького городка так бедна впечатлениями, все лица так знакомы, обо все переговорено так много, что трудно найти новый, интересный предмет для разговора; сверх того нужно поберечь запас мыслей и слов для кадрили и мазурки, где уж непременно нужно занимать свою даму. Впрочем, истинные и исключительные любители женского общества оставляют его только лишь для того, чтобы выкурить трубку или папиросу.
— Как вам сегодняшнее собрание? — спрашивает один из таких любителей вдруг нескольких девиц, отступая перед ними, идущими в шеренге рука-под-руку.
Вместо ответа на этот вопрос, у одной девицы обрисовывается на устах презрительная улыбка, другая как-то лукаво смотрит на третью, в глазах которой сияет так много удовольствия; четвертая сухо отвечает: «как всегда! разве в наших собраниях может быть что-нибудь особенное?»
Но между этим господином и той девицей, в глазах которой сияло так много удовольствия, когда они остаются наедине, идет беседа совершенно иного рода.
— Как вам сегодняшнее собрание? — обращается он к ней с тем же вопросом.
— Очень! отвечает она, играя поясом своего платья.
— Отчего — очень? — спрашивает он выразительно.
— Так-с, ни отчего! — отвечает она так же выразительно.
— О, я отгадываю!
— Нет, не отгадаете!
— Ну, так я буду гадать: нынче святки! Но лучше скажите, пожалуйста, отчего?
— Нет, не скажу!
— Ну, так я узнаю: я колдун!
— Нет, не узнаете!
И, утомленная такой беседой, краснея от волнения и стыдливости, она не в силах более продолжать и спешит соединиться с другими подругами.
— О, как он за тобой ухаживает! — говорят ей они.
— Совсем нет! Вот какие пустяки!
— Говори, говори! Будто мы не понимаем!
— О чем это, брат, ты так долго разговаривал с ней? спрашивает молодого человека другой, делясь с ним своей трубкой.
— Так, братец, ни о чем!
— Э, злодей, знаем мы тебя! Ты давно за ней ухаживаешь.
— Полно! Что ты, чудак! я у них и бываю-то только по праздникам.
— Что же, разве для этого не достаточно бывать только по праздникам!
Между кавалерами, скрывшимся тотчас после танцев, идет беседа другого рода.
— Фу, как устал!
— Да, брат, устанешь: нас ведь немного, а их-то вчетверо больше!
— Что за удовольствие эти танцы! а не танцевать нельзя: просят!
— Я люблю еще вальс; по крайней мере хоть разговаривать не нужно; а вот в кадрили, так там еще занимай даму, — а чем же занимать? Ничего в голову не приходит. Однако, пора ангажировать на французскую кадриль: дали повестку!
В время антрактов являются два официанта с подносами, разнося то конфекты, то лимонад, то варенье и яблоки, то оржад. Многие из девиц, особенно побывавшие в губернском городе, почти не дотрагиваются до лакомств, довольствуясь какой-нибудь небрежно захваченной конфектой; другие имеют более снисходительности; но главными радетелями в этом деле бывают дети и их маменьки, с спокойными, гордыми, улыбающимися или недовольными физиономиями сидящие вдоль стен, терпеливо смотрящие на танцы, нетерпеливо ожидающие, чтобы к ним первая подошла такая-то , и лениво переменяющие свои стулья, на которых с первого раза так охотно уселись. Мамаши знают, что их деликатные дочки не бросятся неделикатно на даровое угощение, которого не бывает ни в губернских, ни в столичных собраниях; но они знают так же и то, что эти дочки не откажутся скушать конфекту или яблоко дома, когда будут вспоминать только что оставленное собрание.
Но вот начинается кадриль.
— Permettez poi vous engager? — говорит один, знающий все светские фразы французского языка.
— Позвольте вас ангажировать на кадриль? — спрашивает другой, как — бы служа переводчиком первому.
— Угодно ли вам со мной танцевать? — самоуверенно предлагает третий, и т.д.
— Mais? ma chere? кавалеров недостает: будемте танцевать со мной; я за кавалера.
— Чудесное собрание! — иронически замечает неангажированная.
— А кто же наш vis-a-vis?
— Он будет переходить.
И кадриль устраивается в шесть-семь пар.
Кадриль танцуется без па, почти ходя, как и везде; разве только какой-нибудь устарелый любитель танцев вздумает про старину, и напомнит, как танцовывали прежде. Но и в настоящее время и у современных танцоров, по крайней мере уездных, пятая фигура и solo ее составляют часто предмет особой заботливости и тщательной, разнообразной, прихотливой отделки: вот один пройдет в этом solo мерным шагом под музыку, ступая сначала на пятку, потом на носок, другой быстро пролетит как на крыльях и даже делает антраша, третий протанцует прехитрый глиссад и т.д., но, одним словом: всяк по своему и как можно изящнее.
Но вот кадриль кончилась и сменилась польками. Здесь танцуют всевозможные польки: и трепещущую, т.е. tremblante, и польку-редову, и польку-мазурку, и даже польку-figure. Все они исполняются весьма прихотливо и оригинально. Так, например, в польке-tremblante танцоры стараются как можно более перекидываться с боку на бок, так что когда приподнимают левую ногу, то в это время всем корпусом склоняются на лево, и наоборот, сменяя левую ногу правой, быстро перегибаются на противоположную сторону. Вообще польки танцуются чрезвычайно быстро, бойко, весело и смело. При самом появлении полек в танцевальных залах маленького городка все единогласно сохраняли мнение, что полька — танец польский, и сначала танцевали его хотя также довольно скоро и живо, но умеренно. Потом книги, слухи, изменили прежнее предположение о польском происхождении польки и заменили его убеждением, что французы выдумали этот танец. Тогда танцоры городка, размышляя, что французы народ веселый, живой, бойкий, и что на их танцах должен отразиться характер самого народа стали танцевать польки гораздо быстрее прежнего.
Кто не знает, как богата танцевальная музыка множеством разнообразных полек? кто не знает, что весь алфавит женских имен потрачен на отличие одной польки от другой? Но провинциальный городок, или, лучше сказать, его оркестр знает только одну польку с фамилией, а именно: польку-Анну, и еще несколько безыменных. И как бы удивился Мюзар, если бы каким-нибудь волшебством, в былое, славное для него время, он был перенесен с берегов Сены, в скромный городок, в самый пыл его общественного удовольствия, и увидел бы он эти две или три пары, подобно гибким стеблям тростника, при сильных порывах ветра, колеблющиеся среди залы, и услышал бы он этот оркестр, едва заглушающий шарканье ног танцующих и наигрывающий свою польку-Анну!.. Любопытно бы было знать, напоминала бы ему эта полька ту, которую танцевали под звуки его оглушающего, бурного оркестра, и эта музыка — ту, которая заглушала даже крики парижского карнавала? Но поверят ли мне, если я буду даже свидетельствовать совестью автора, желающего не смешить и не утрировать, но говорить только сущую правду и описывать действительность — поверят ли мне, что эта французская полька-tremblante нисколько не требует нарочно для нее написанной музыки, но что она может легко танцеваться под некоторые русские песни, и что автор этой статьи неоднократно был свидетелем такого смешения французского с нижегородским? Так, например, полька — tremblante весьма удобно и грациозно танцуется под следующие песни:
Как под липой, под липой,
Под кудрявой, зеленой, и проч.
или:
Уж вы, сени мои, сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решотчатые!..
При этом, конечно, такт танца несколько меняется, но эта жертва ничего не значит пред общим удовольствием. Случалось так же, что французскую кадриль танцевали здесь под известную русскую народную песенку:
Чижик, чижик, где ты был?
На канавке водку пил… и т.д.
и опять повторяю: это сущая правда. Конечно, все это случалось не на тех частных собраниях, о которых я рассказывал, но на частных вечерах, когда хозяин дома, желая доставить своим гостям возможность танцевать, заставляет свою дочь целый вечер играть на фортепиано, или, за неимением их, посылает за единственным в городе скрипачом (он же и дворовый человек, и повар, и парикмахер), который, купив где-то скрипку, по случаю, за два двугривенных, самоучкой, с голосу, но препорядочно наигрывает разные русские песенки, особенно в праздничный день, когда господа уезжают в гости и людская наполняется веселыми и свободными горничными, которые неотступно просят его «погудеть что-нибудь, ради потехи.», Но мы отвлеклись от предмета.
В собрании раздаются не такие звуки, и оркестр его не унизится до русской песни. Польки сменяются кадрилями, кадрили десертом, десерт галопадом, который танцуется так же разнообразно, так же прихотливо. Развеселившаяся молодежь, руководимая каким-нибудь молодящимся стариком, решается наконец вспомнить старину и танцует экосез или гросфатер, но танцует их не иначе, как ради шутки и с пренебрежением, но, тем не менее, весело и с удовольствием, потому что затейливые фигуры этих танцев, особенно последнего, очень оригинальны: то вдруг кавалер превратится в кошку, а его дама в малую крошечную мышку; то вдруг неловким кавалерам предстоит прыгать через платок, который иногда умышленно приподнимается в то самое время, когда должен совершиться скачок: неловкий танцор задевает ногою за барьер и падает на пол, к общему смеху и удовольствию; то, наконец, все пары совьются в один длинный плетень таким образом, что прелестная ручка дамы лежит на широком плече мужчины, а неуклюжая рука кавалера на алебастровом плечике дамы. Этот неразрывный плетень часто двигается под музыку из одной комнаты в другую и, достаточно покружившись, начинает расплетаться. Замечательно, что эту последнюю фигуру, с особенным удовольствием танцуют кавалеры и любят, чтобы руки их не были разделены с руками их дам посредством платков; дамы же, напротив, находят ее не совсем приличною, и если танцуют, то стараются непременно пустить в дело платок. Впрочем, часто случается по этому поводу такого рода разговор между кавалером и дамой:
— Не угодно ли вам взять свой платок? говорит последняя, лукаво и миловидно смотря на своего кавалера.
— Зачем же платок? Можно без платка.
— Так-с! Возьмите, пожалуйста! — говорит немного краснея и более настойчиво.
— Да нет у меня его: я позабыл! — отвечает кавалер, ощупывая карманы своего фрака, и бессовестно лжет, потому что присутствие платка заметил бы даже близорукий.
— Ну, так возьмите мой платок.
— Ах, как хорошо пахнет от вашего платка! — возражает молодой человек, закрывая платком свой нос. — Вы, верно, не здесь покупаете духи?
— Нет, не здесь… Но пора начинать: давайте же платок!
Молодой человек подает, однако, не платок, а свою руку, платок же кладет в свой карман.
— Что вы делаете? — говорит, конфузясь дама и вслед за тем, если она дама только в танцах, а в жизни еще девица, то робко ищет глазами свою маменьку; если же она дама в собственном смысле этого слова, то своего наблюдательного и, может быть, ревнивого мужа. Но как дрожит ее ручка на плече кавалера и как крепко сжимает ее его рука, и как неловко он держит ее ручку: очень близко к своей щеке!
С другой стороны, напротив, вы замечаете, как некоторые пары безмолвно и предупредительно разделяют свои руки платками, и вас удивляет, что лица их весьма равнодушны, а руки весьма тверды и не трепещут.
Не угодно ли вам послушать разговор, который идет в первой паре, по окончании гросфатера, когда она как-то, должно быть ненарочно, очутилась вдали от прочей толпы, в уголку, у окна.
— Что же вы не подали мне платка? Как вам не стыдно.
— Я, право, заторопился и позабыл совсем: думал, что это мой платок и положил его в карман.
— Как же!.. Но подайте мне его.
— Зачем же он вам?
— Как зачем? Вот прекрасно! Разумеется, зачем!
— От него так хорошо пахнет!..
— Чтож из этого? Подайте же, пожалуйста, платок! Ведь смотрят…
И молодой человек поспешно и небрежно подает ей платок, как будто он делает обыкновенную услугу. Но увы! к чему хитрости: все видели, что было, и даже видели много такого, чего не было и не могло быть. Вы замечаете, что на устах некоторых девиц мелькнула какая-то особенная полу-насмешливая, полу-презрительная улыбка, когда к ним подошла та дама, оставив своего кавалера, что как-то особенно выразительно посмотрел на молодого человека, и также выразительно пожал ему руку его приятель, что в двух или трех углах довольно тихо и насмешливо говорили пожилые дамы, указывая только одними глазами, на разлучившуюся пару; вы замечаете даже, что улыбающееся и самодовольное лицо заботливой маменьки сделалось как будто сердито и еще более озабочено, и что наблюдательный, а может быть и ревнивый, муж вдруг, без всякой видимой причины, поморщился, сдвинул брови, а потом как-то гордо и презрительно говорил в буфет с знакомым уже нам молодым человеком.
Но вот оркестр снова заиграл польку-Анну, и в зале заметно какое-то особенное движение: многие встают из своих мест; даже самые исключительные любители карточной игры и буфета и враги танцев появляются в дверях залы, даже некоторые игроки с картами в руках оставляют свои места и выглядывают через плечи образовавшейся у дверей залы толпы зрителей. Что же там должно случиться? Очевидно, общее внимание возбуждено.
Среди залы появляется юноша, рука-об-руку с сестрой своей, пансионеркой, так же как и он, отпущенный на вакансию из пансиона. Молодой человек оказывает большие способности в хореографическом искусстве, и знакомые его маменьки упросили ее приказать детям протанцевать фигурную польку. /Они начали. Держась рука за руку, они сделали па и взглянули один на другого, сделали другое па и отвернулись, потом снова взглянули и снова отвернулись; потом вдруг пансионерка сложила руки за спиной, а юноша на груди: юноша делает па вперед, пансионерка назад — эта фигура технически называется наступать и отступать; вслед за этим та же фигура повторяется, только наизворот, то есть пансионерка наступает со сложенными на груди, а юноша отступает со спрятанными назади руками. Далее они вдруг схватываются обеими руками и, грациозно изгибая их, в виде цифры 8, то посмотрят друг на друга, то снова отворотятся. Эту фигуру назвали здесь: смотреться в окошечко. Общий говор похвалы и удовольствия раздался со всех сторон по окончании танца. Маменька слушала эти похвалы, упорно доказывая их неосновательность, хотя, может быть, внутренно вполне соглашаясь с ними; пансионер принимал похвалы самоверенно, стараясь, по совету танцмейстера, как можно шире расставить носки своих сапогов, и расшаркиваясь, по тому же совету, с некоторым приподнятием левой ноги; пансионерка на все благодарности отвечала, приседая и конфузясь: «pas de qoui!», а на излишние похвалы скромным: «совсем нет-с!»
Здесь считаю нелишним рассказать о том впечатлении, которое произвели на уездный городок впервые появившиеся в нем польки и как постепенно они сделались одним из любимейших в нем танцев. Один столичный франт, проезжая чрез городок, остановился у родственника своего, ближайшего к городу помещика. У помещика были дочери, которые приходились столичному франту в том родстве, которое определяется словами: кузен и кузина. Кузен рассказывал кузинам о своих столичных удовольствиях: о театре, театральных маскарадах, немецком собрании, о загородных гуляниях и проч. в этом роде. Кузины слушали его с полу-открытыми устами и с совершенно открытыми глазами, часто улыбались и еще чаще переглядывались между собою, оправляя в то же время свои платьица. Наконец столичный франт упомянул о польках.
— Как, разве вы танцуете их, кузен? — спросили в один голос кузины.
— Разумеется! А вы? Неужели не танцуете?
— Нет! — отвечали кузины, конфузясь.
— Что вы говорите? Вот мило! Да это не жизнь, а прозябание! Что же вы танцуете?
— Мы все танцы танцуем!
— Вот мило: все танцы знают, а полек не знают! Да знаете ли вы, что такое это польки? Видели ли вы их?
— Нет, даже не видали! Папенька не ездит даже в губернский город! — отвечали кузины, еще более конфузясь и посматривая на своего папеньку, который в это время толковал что-то с своим старостой.
— Это просто ужасно! Вы не можете вообразить, кузины, что это за танец! Это просто прелесть, очарование! И молодой человек стал наигрывать языком какую-то новую польку.
Кузины неотступно просили его научить их танцевать этот танец, и уже в головках их вертелась самолюбивая мысль: как удивится все их общество, когда в первом же собрании они первые протанцуют польку. Кузен согласился и уроки прошли очень быстро и успешно. Через несколько дней должно было быть собрание в городе, и кузины стали просить столичного франта ехать с ними.
— Да что же это у вас такое за собрание? — расскажите мне.
— Как что такое? Разумеется, настоящее собрание!
— Настоящее!.. А, это должно быть интересно. Что же, у вас и клуб есть?
— Нет, клуба нет! Клуб хотели сделать, да как-то не удалось; а просто так, собрание!
— Вот прекрасно! Следовательно, и в карты нельзя поиграть! Неужели же все танцевать с вами, когда у вас и полек-то не знают.
— Нет, кузен, у нас в карты играют! Не беспокойтесь! Это-то всегда можно!
— Да ведь где же играют? Клуба ведь нет у вас?
— Все равно! У нас в собрании играют!
— Как? В собрании, в самом собрании!.. Ха, ха, ха! Нет, нет. Не поеду! Ни за что не похоже. Да как же вы-то туда ездите?.. В карты играют в собрании!.. Ха, ха, ха!..
— Уж не говорите, кузен! Наше собрание ни на что не похоже: ведь трубки курят в соседней комнате и дым так и идет в танцевальную залу!..
— Как, и трубки курят! Ха, ха, ха!.. Вот так собрание! Чудное собрание — нечего сказать!
— Зато, кузен, у нас весело! Хорошеньких много! — сказала лукаво одна из кузин.
— Воображаю: должно быть хорошенькие! Кто же это? Кто?
— А вот: Соничка Ъ — хорошенькая, Аглаичка Ь — прелесть, Зиночка И — премиленькая. Поедемте, кузен, пожалуйста.
— Разве посмеяться? Ну, пожалуй! Извольте. Да у вас в чем же ездят, в сюртуках или во фраках?
— Ну, полноте, кузен! Вы уж очень насмешничаете! Разумеется, во фраках! Конечно, иные — пожилые — ездят в сюртуках, но молодые кавалеры все во фраках.
— Понимаю: в каких-нибудь брусничных, коричневых, зеленых?
— Нет-с, извините! Больше в форменных! — возразила, несколько обидясь и наивно, одна из кузин.
— В форменных? В собрание!.. Ха, ха, ха! От часу не легче!..
Однако, вдоволь посмеявшись над предстоящим удовольствием, франт решился ехать. Самоуверенно надел он свой черный фрак, небрежно повязал большой, модный в то время, шарф, приколол его, где следует, блестящей булавкой и гордо натянул свои желтые, чисто французского происхождения перчатки. Кузины оделись, по мнению франта, тоже недурно и хотя и не по самой последней картинке, но современно и со вкусом, что немало его удивило.
Две лихие тройки стояли у подъезда: одна из них в возке, в которой поместились кузины со своею маменькой, другая в широких покойных санях: в последние уселись франт и сам глава семейства. Быстро мчались они по гладкой зимней дороге и очень быстро приехали в город. Здесь они предварительно заехали к одному знакомому, где кузины поспешили привести в порядок свой костюм, а помещик со своим столичным родственником волей-неволей должны были, по усильным просьбам хозяина и хозяйки дома, погреться чайком.
Наконец они были в собрании. Я не стану рассказывать о том впечатлении, которое произвело на столичного франта собрание городка со всеми его атрибутами — это вы и сами легко вообразите. Но не могу умолчать о впечатлении, которое произвел он на все общество. Вообще весь дамский пол городка, т.е. маменьки и их дочки, тетеньки и их племянницы, наконец бабушки и их внучки сильно предубеждены против столичных франтов, считают их большими, дерзкими насмешниками и — подивитесь! — людьми, не знающими образования или не желающими его поддержать из пренебрежения к ним. В этот раз новый столичный франт не уничтожил этого обидного мнения, оскорбляющего его собратов, но, напротив, еще развил его, особенно при первом своем появлении. Он вошел гордо, с саркастической улыбкой на устах; говорил со всеми, кому рекомендовал его родственник, небрежно и холодно, вообще занимался больше с кузинами и, как видно, над всеми насмехался, сидел невежливо, развалясь, и даже, увлекшись, вероятно, примером, курил трубку не только в соседней комнате, но даже в дверях танцевальной залы, что очень обидело дам. Но мало по малу, вместе с каждым танцем, он более и более позабывал свою роль, делался разговорчивее, и наконец под этот — бетховенский, по его выражению — оркестр, стал танцевать так много и весело, что удивил всех своей неутомимостью.
Наконец, в самом разгаре всеобщего веселья, кузины стали просить его протанцевать с ними вновь выученную польку; молодой человек охотно согласился. Представилось некоторое затруднение в музыке: оказалось, что из четырех музыкантов только один скрипач знал какую-то польку, которая, по его собственному признанию, была не совсем подходяща к танцу, каданс которого молодой человек передал ему посредством наигрывания языком и хлопанья в ладоши. Впрочем, музыкант был человек смышленый, ловкий и знающий свое дело. Он тотчас варьировал известную ему польку так, как было нужно, и уверил всех, что все теперь пойдет хорошо. Слух о том, что приезжий из столицы будет танцевать ноывую польку с одной из своих кузин, разнесся по собранию быстрее молнии. Общее ожидание настроилось до высочайшей степени. Но истинно отрадно было видеть при этом что могут сделать образование, свет и знание его приличий: ни одна из дам и девиц, которые с нервическим нетерпением ожидали видеть новый танец, ничем не обнаружили этого нетерпения. Напротив, они сделались перед этим зрелищем гораздо серьезнее, на устах сияла улыбка равнодушия, и вместе с тем сомнения, что вряд ли можно их чем-нибудь удивить, и вообще вся их внешность представляла сознание собственного достоинства. Одна маменька, с полу-шутливым, полу-укоризненным тоном заметила своей тринадцатилетней дочке, которая не умела еще скрыть любопытства и нетерпения: «Что вы так суетитесь? Тут, душенька, нет ничего необыкновенного: этот танец известный! В Петербурге и Москве его давным-давно танцуют! Это стыдно! Подумают, что ты худо воспитанная девушка!», — прибавила она почти шепотом, оправляя корсаж ее платья и скрывая за лифом какую-то тесемочку, которая своевольно выбилась наружу. После этого мамаша обратилась к соседней даме со словами: «Ужасный еще ребенок!» В ответ на это, дама снисходительно улыбнулась, прибавя: «А как высока ростом!»
Между тем зала наполнилась любопытными из соседних комнат: новый танец хотели видеть даже и те, которые от роду ничего не танцевали. В зале воцарилась тишина, прерываемая лишь слабым шепотом. Но раздались звуки только что импровизированной польки; танцоры вышли на средину залы. И вот они полетели быстро, быстро, по прямому направлению, покружились в углу и снова полетели — это была полька-tremblante… И неужели я должен уверять моих читателей в справедливости слов, которыми я буду теперь рассказывать о том неожиданном впечатлении, которое произвела полька на зрителей?… С каждым па танцоров, лица маменек морщились, делались серьезнее, озабоченнее; когда же танец кончился, они изображали просто ужас и негодование. — «Так вот что значит эта полька-то!», — думали они — «Прекрасно, нечего сказать! Это просто неприличие!»
— Как вам нравится полька? — спрашивала одна маменька другую.
— Помилуйте! Это такой неприличный танец, что я не знаю, право, как можно допускать его в порядочном обществе. Я ни за что не позволю его танцевать моим детям!
— Ваша правда! — прибавила третья. — Польку разве и могут танцевать только в Париже. Я тоже ни за что не позволю его танцевать своей Полине…
— А я так, просто, не велю своей и смотреть на эту польку! И что ею так восхищались? Трясучка — и больше ничего! — сказала насмешливо четвертая.
Строгость маменек пошла еще далее, так что когда столичный франт стал танцевать польку с другой своей кузиною, то некоторые из них увели своих дочерей в другую комнату, говоря, что им неприлично даже и быть там, где танцуют этот танец, а не только смотреть или перенимать его. Мужья, под влиянием взгляда и развитого вкуса своих супруг, вполне разделяли их мнения. Один только из них, отставной воин, несмотря на пробивающуюся уже седину, вполне по видимому согласившись с мнением своей жены относительно польки, отзывался о ней совершенно иначе: «Что ж такое?» — говорил он, — «по-моему, славный танец!».
Молодые люди и девицы, рассуждая между собою, говорили, что полька ничего! Что в ней нет ничего особенного! что она весьма проста и вовсе не так трудна, как рассказывали, но вряд ли они станут ее танцевать. Итак, по-видимому, польку ожидало здесь совершенное падение при самом появлении ее. Но — поверите ли? Вышло совсем иначе. Молодые люди и девицы, говоря вслух таким образом, думали совсем иначе и находили, что полька напротив, очень миленький и веселый танец! Вследствие этого в ту же самую ночь, по окончании собрания, в разных местах города, в полуосвещенных залах, припоминали па польки. Потом стали ее танцевать домашним образом, секретно. Далее изредка, ради шутки и смеха, танцевали ее на частных вечерах, и наконец, через год она вошла во всеобщее употребление и заслужила общую любовь. Сначала, разумеется, маменьки ни за что-бы на свете не позволили публично танцевать польку своим дочкам и не совсем благосклонно смотрели даже на то, что они забавлялись ею наедине… но к чему не присмотрится, к чему не привыкнет человек?..
И теперь уже не боятся полек, но любят их и стыдятся не танцевать, так что девица, не знающая их, пожалуй получит название необразованной, хотя бы говорила по французски и умела играть на фортепиано. Появление в городке каждой новой польки составляло эпоху, разумеется, в танцевальном мире, если можно так выразиться; но теперь все польки знакомы, и ни один уже столичный франт не удивит своим искусством; по крайней мере ему так покажут.
Но вот наконец, далеко за полночь, калетовские (здесь не говорят: стеариновые) свечи превратились в огарки. Пора приниматься за мазурку, заключающую каждое собрание. Как хороша и разнообразна она! какое поприще для изобретательности первой пары!
Здесь танцуют все возможные фигуры мазурки: и с поставленным на средину комнаты стулом, и с выбором цветов, качеств, добродетелей, пословиц, и с киданием платка вверх; но самую занимательную для остроумных кавалеров фигуру составляет «прибирать рифмы». Девица говорит слово, кавалеры прибирают к нему однозвучное. Между этими рифмами вам удается слышать много любопытных и весьма остроумных, как, например эти: «морковь — кто таков», «безделица — рукодельница», «Кинешма — Минишна», «Сапог — ох, ох!», «Тыква — эк, вы!» и т.д. Иногда, и очень часто, по поводу этих рифм происходят споры, находят, что рифмы не похожи.
— Как не похожи? Тыква — эк, вы?
— Разумеется, не похоэи: Тык… ва, тут на конце -ва, а вы говорите: эк, вы! у вас на конце -вы. Да и что за слово: Эк, вы? Этакого слова нет, а тут надобно слова говорить!
Но, как всему на свете, настает конец и мазурке, хотя у нее, впрочем, и нет конца, в чем согласился и один из музыкантов, говоря, что он давно уже выбился из сил, а мазурка все еще не кончается. Тотчас после мазурки все дамы начинают собираться домой, и только одна неугомонная молодежь просит протанцевать в заключение еще французскую кадрильку. Но, как бы то ни было, вместе с угасающими или по крайней мере догорающими свечами танцевальная зала пустеет; но долго еще и после того полная жизнь кипит в карточной.
Здесь уже давно переменили догоревшие свечи, в медных подсвечниках, другими; но игроки крепко держатся своих постов. Было время, когда любимыми и общими играми в городке, из числа коммерческих, были бостон и вист; потом негаданно и неожиданно закрался как-то в общую любовь преферанс и уничтожил собою все прочие игры. При самом появлении своем он был встречен почти так же, как полька. «Препустейшая игра!» — говорил записной игрок в вист и бостон. — «помилуйте, какая это игра? Не требует ни малейшего соображения, скука смертельная, точно в дурачки играешь!» А между тем записной игрок продолжал себе играть в преферанс и стал мало-по-малу предпочитать его даже бостону. «Кто его знает,» — говорил он впоследствии, садясь за карточный стол, — «что это за преферуша: ведь пустейшая игра, никакого соображения не требует, а точно, братец, кабалистика какая тебя подтягивает; сядешь играть, ну так бы и не вставал: хоть двадцать пулек сразу.» И действительно, преферанс имел какую-то магическую силу: он привлек к себе и здесь, как везде, все полы, возрасты и состояния. Стали играть не только мужья, но даже дочки. Преферанс играется здесь со всевозможными вариациями: семь и восемь с прикупкой, или, иначе, талоном, и без прикупки, с мусом и с пропасовкой, или розыгрышем, с мизерами и даже котлом.
Сначала преферанс игрался в первобытной своей чистоте; потом он вошел в дружеской связи с вистом, и образовалась новая игра — вист-преферанс; а наконец когда пошла мода на разные ералаши, то и здесь на сцену не преминул явиться карточный ералаш. В чистый преферанс играют здесь и по две коп. асс. (преимущественно дамы), и по две коп. сер. (большая часть чиновников), и даже по пяти коп. сер. (только знать). Игра идет как и везде: сначала мирно и почти безмолвно, потом более угрюмо и сердито, а наконец, где нужно, и очень с сердцем, что оправдывается, впрочем, известной истиной: «Все люди, все человеки! Конечно, нельзя, чтобы и не посердиться.» На этом же основании случается, конечно, и то, что начальник гневается, если подчиненный обремизит его, что друзья месяца по два не говорят друг с другом, за умышленно неправильный ход, что молодо человек получает протекции у старушки, проигрывая и подсказывая ей ходы: и здесь все то же, что и в большом свете, — только здесь все в миниатюре. Все люди, все человеки!
В карточной игре тотчас, по разъезде дам, как мы сказали уже, сцены изменяются; табак дымится страшно, всевозможные в городе вина, как-то: мадера, от которой чересчур пахнет французской водкой, херес, чрезвычайно похожий вкусом на мадеру, подсвеченною жженым сахаром, рейнвейн, которого невозможно различить с сотерном, и проч. и проч., — все эти вина пьются в большом размере и число бутылок с наклеенными на них ярлыками растет быстро в соседнем буфете; разговор делается гораздо громче, свободнее и непринужденнее; костюмировка изменяется.
— Эка жара! — говорит тучный господин: — хоть бы и снять с себя и сюртук; насилу-то разъехались. Кто их знает, что им тут за радость! прыгают да и только!.. Не понимаю, что за удовольствие!
— А вот бы тебя бы пустить поплясать! Хорош бы был! — возразил тучному господину его партнер, с вытаращенными глазами, высоко поднятыми бровями и большим носом, который (т.е. разумеется не нос!) самовольно взял себе право быть со всеми в самых коротких приятельских отношениях, для того, чтобы говорить всем дерзости.
— Ну, полно, полно, ты, бритва! — возразил добродушно тучный господин: — сам-то на кого похож?
Раздался хохот. Дружеская перемолвка продолжалась.
— С чего ты ходишь? — говорят за другим столом. — Разве тебе следовало с туза ходить? Совсем не следовало.
— Захотел, так и пошел! — отвечает лаконически тот, к кому обращались предыдущие слова.
— Да он оттого с туза пошел, что сам-то на туза похож: вишь ты какая фигура важная! — подхватил тот же господин, имевший право говорить всем дерзости и только что кончивший перемолвку с одним противником.
На других столах играют более степенные игроки, находящиеся не в таких коротких и приятельских отношениях; там и разговор гораздо благообразнее.
— Не угодно ли вам брать взятку-с… она ваша! говорит человек средних лет, выдвигая быстро вперед свою голову и в то же время склоняя ее на бок.
— Моя-то, моя, почтеннейший! — отвечает другой господин. — Да что вы привязались все к бубням, что вы не ходите в трефы? Видите, что они мне в руку.
— Извольте-с, я и в трефы! — возражает первый и в то же время смотрит на других партнеров с улыбкой, которой как будто хочет сказать: «ведь я, господа не просил их говорить мне, чтобы ходить в трефы: они сами сказали; что же мне делать?»
…Но уж не скучно ли вам? Не хочется ли вам спать? Вы не дождетесь, когда кончат эти господа: они проиграют еще долго. Долго еще будут играть они, потом долго станут разбирать свои шубы, картузы и калоши, а потом отправятся домой, где застанут всех уже спящими и с трудом растолкают крепко заснувшего казачка, который должен ожидать возвращения своего барина и сторожить комнаты.
Мы не успели следить за разъезжавшимися из собрания дамами, и хотя супруги и отцы застали их уже в глубоком сне, но они и уехали и заснули с разными чувствами: те матери, дочки которых были отличены, те девицы, которые много танцевали, оставались весьма довольны собранием и не замечали его недостатков; напротив те барышни, которые были обойдены в танцах, сердились вместе с своими мамашами.
— На что похоже это собрание? — говорили они. — Кавалеры все условились, с кем танцевать… до собрания еще разобрали всех дам; музыка, как на ярмарке; конфекты какие подавали: это ужас! я взяла одну в рот, так не знала, что с ней делать? Есть невозможно. А еше эта Соничка говорит, что французские конфекты. Много она понимает! Хороши французские!
— А ты заметила, — спрашивает маменька, — что с ней больше всех танцевали?
— Как не заметить: она известная кокетка! Ну, право, даю честное слово, что если и следующее собрание будет такое же, я ни за что в него не поеду!
Но не бойтесь: она непременно поедет и в следующий раз, потому что не знает, будет ли для нее та же участь, как и в прошедшем собрании, но, напротив, надеется танцевать много, много, и она сама станет звать свою мамашу.
Также строгому суду и колкому разбору подлежат все нововведения в костюме, и нововводительница терпит горькую участь до тех пор, пока ее примеру не последуют сами рецензентки. Так однажды ужасный шум наделала одна девица, которая, вычитав из журнала (а ведь здесь журналы читают
), что в столицах ездят на балы с букетами, решилась вооружиться им в предстоящее собрание. Но, Боже мой, бедная девушка! Сколько претерпела она за эту новость! Сколько двусмысленных улыбок посыпалось на этот букет! Сколько сарказмов обрушилось на ее голову! Один из кавалеров даже написал на этот случай критику в стихах, от которых ужасно пахло курительным табаком. Все девицы находили, что приехать в собрание с букетом просто ни на что не похоже, а между тем — о люди, люди! — через несколько времени они сами явились в собрание с букетами, посколов для них все цветы с своих шляпок…
Но с какими бы чувствами они не приехали из собрания, что бы не говорили, о чем бы ни мечтали, а сон слетел на их вежды и еще более зарумянил их щечки и без того румяные…
Не уснуть ли и вам, мой благосклонный читатель? Вы кажется, зеваете? До свидания!





















 Версия для печати
Версия для печати RSS лента
RSS лента Мы вконтакте
Мы вконтакте

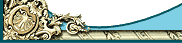









Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.